Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник пришёл с холмов... (Р.Л.Стивенсон, "Реквием")
На улице Гиллель, 27 в Иерусалиме есть здание с несколько несуразным названием "Зал культурных центров". Временами там проходят разнообразные творческие вечера, встречи, выставки. Через несколько дней именно там состоится концерт приезжающего из Москвы Михаила Щербакова. Вчера вечером там состоялась, по выражению поэта Гриши Трестмана, пьяная презентация очередного выпуска литературного альманаха "Огни столицы", издающегося нашим писательским содружеством. Рассказывать о такого рода вечерах можно почти бесконечно, и, как вы знаете, я делаю это с достаточной степенью регулярности. Однако сегодня у меня не так много времени - через несколько часов ко мне в гости из СПб приезжают (прилетают, вернее) мои родители и сын, поэтому ограничусь формальной ограновкой, как выражается скандальный журналист и публицист, находящийся в оппозиции к любой власти, Сан Саныч, вечно молодой, вечно пьяный.
Так выглядит альманах снаружи:
читать дальше
Гостей, по выражению поэта Илюши Берковича, было немерено. Прежде всего, все обратили свои взоры к столу, который накрывал сам Председатель. Я помогал ему и находился все время рядом, отчего приехавшие на торжество иностранные гости решили, что я-то и есть распорядитель вечера. Ко мне стали подходить и вполголоса обращаться со странными просьбами оказать протекцию (я так и не понял, в чем она могла бы выражаться); поскольку я был выпимши еще до начала церемонии, то полагал, что сам виноват, и в ответ многозначительно задирал брови и мычал невразумительное. Это еще больше укрепляло гостей в моем статусе. Меня стали снимать на фото- и киноаппараты. Явились разухабистые парни с телевидения, с ними - веселые девицы с самокрутками марихуаны, и тоже стали снимать меня. Я очень смущаюсь в таких случаях, поэтому ушел за Председателеву спину. Председатель, как и Сан Саныч, тоже был пьяный, но уже не такой молодой, как он. Он страшно нервничал, что не хватит водки; почувствовав запах гашиша, он взревел и попросил курящих выйти вон - у него астма. Удостоверившись, что водки хватит, он плюнул на пол и открыл вечер.
Вот он ведет вечер, вечно пьяный, но уже далеко не такой вечно молодой, как вы могли бы подумать по его стихам:
читать дальше
В зале скопилось дикое количество народу, все внимали выступлениям и завистливо принюхивались ко мне, потому что я, изображая лицо, приближенное к императору, сидел рядом с Председателем и пил лимонную водку, не обращая внимание на голодных гостей.
читать дальше
Когда я совсем был уже хорош, начали представлять мои рассказы, опубликованные в этом выпуске альманаха. Фурор, как и ожидалось, вызвала публикация рассказа, посвященного нашему дорогому Рустамычу.
читать дальше
В зале шептались: "кто это такой? Шо это за Гизатулин? Ай да Гизатулин! Во дает Гизатулин". Я привстал со стула и невнятно рассказал о Рустамыче, о том, какую хорошую книжку об Окуджаве он написал, какой он большой, толстый и симпатичный. Брат! - растроганно рычал я в зал и бил себя в грудь, как орангутан. Гости оживленно хлопали в ладоши моей экспрессии. Потом я сошел со сцены и спел немузыкальным голосом песню моей юности:
"летящей походкоооой
ты вышла за водкоооой
и скрылась из глаз
под машиииииной Камаз!"
Аллах знает, каким образом возникла у меня ассоциация творческого вечера с этой песней, но гости умилились и захлопали, поняв так, что это мои новые стихи. Телевидение снимало не переставая. Моя школа! - одобрительно сказал Председатель и стукнул кулаком по столу. Я пошел в туалет. На обратном пути в коридоре на меня напала рослая, но симпатичная девица - белокурая негритянка, охранница с пистолетом. Я до сих пор не понимаю, что с ней было, но сознание мое ухватило один фотокадр - охранница, расстегнув брюки, помахивает фирменным ремнем, на котором болтается огромный армейский пистолет сорок восьмого калибра. Я шарахнулся в сторону, сделал прыжок, проскочил мимо нее и вернулся в зал. В зале на меня напал восьмидесятилетний поэт в наполеоновской треуголке и толстовке а-ля Солженицын, с сивой бородой до пояса, известный всему Иерусалиму Вильям Бабкин, автор десяти книг трогательных стихов, последний романтик, как он умиленно называет себя сам. Что это за Гизатулин? - строго спросил он меня, со скворчаньем, как старая раковина, всасывая в себя стакан красного сухого. - Это мусульманин? - Это очень, очень плохой мусульманин, - ответил я. - В каком смысле? - удивился он. - В том смысле, что и Белла Ахмадулина, - пояснил я. - Хм, - сказал он и выкатил на меня глаз. Нехороший какой-то глаз, мутный. - В каком смысле как Ахмадулина? - продолжал допытываться последний романтик. - Папаша, пусть вас не волнует этих глупостей, - процитировал я, чтобы отвязаться от него, - мине нарушают праздник; пожалуйста, выпивайте и закусывайте. - А если он плохой, то почему рассказ о нем несет в себе суррогат мусульманской формулы для правоверных? - продолжал он, не обращая внимания на тень великого Бабеля, витавшего между нами. - Как вы умно выражаетесь, папаша, - сказал я и погладил его по плечу. - Он плохой мусульманин в том смысле, что имеет глупость быть воинствующим атеистом; но как человек он хороший, понимаете? И писатель неплохой, и биограф хороший весьма. - Поэт медленно удивился. - Атеист, вы говорите? И хороший человек притом? Как это? - Мне все это уже надоело, я с нетерпением поглядывал на стол, вокруг которого пировали, орали стихи и песни, спорили, обнимались и целовались прозаики, журналисты, публицисты, литературные критики и поэтессы. - Папаша, - сказал я, - вы мыслите узко, как подобает не поэту... - Атеист! - еще раз ужаснулся он.- Великий Хайям был вольнодумцем, но до такого не доходил. - О Аллах, - вздохнул я. - И великий Джами... - продолжал он. - Слушайте, я хочу выпить и закусить, - сказал я. - Атеист! - еще раз воскликнул он, - а вы посвящаете ему рассказ! - С отвращением глядя на меня, он отошел в сторону и смешался с толпой. В зале стоял дым коромыслом. Черно-белая охранница с пистолетом целовалась в углу с юной поэтессой Зоренькой. Гости, глядя на сцену, оглушительно, хором били в ладоши и кричали "Асса!"
Председатель отплясывал канкан.
Так выглядит альманах снаружи:
читать дальше
Гостей, по выражению поэта Илюши Берковича, было немерено. Прежде всего, все обратили свои взоры к столу, который накрывал сам Председатель. Я помогал ему и находился все время рядом, отчего приехавшие на торжество иностранные гости решили, что я-то и есть распорядитель вечера. Ко мне стали подходить и вполголоса обращаться со странными просьбами оказать протекцию (я так и не понял, в чем она могла бы выражаться); поскольку я был выпимши еще до начала церемонии, то полагал, что сам виноват, и в ответ многозначительно задирал брови и мычал невразумительное. Это еще больше укрепляло гостей в моем статусе. Меня стали снимать на фото- и киноаппараты. Явились разухабистые парни с телевидения, с ними - веселые девицы с самокрутками марихуаны, и тоже стали снимать меня. Я очень смущаюсь в таких случаях, поэтому ушел за Председателеву спину. Председатель, как и Сан Саныч, тоже был пьяный, но уже не такой молодой, как он. Он страшно нервничал, что не хватит водки; почувствовав запах гашиша, он взревел и попросил курящих выйти вон - у него астма. Удостоверившись, что водки хватит, он плюнул на пол и открыл вечер.
Вот он ведет вечер, вечно пьяный, но уже далеко не такой вечно молодой, как вы могли бы подумать по его стихам:
читать дальше
В зале скопилось дикое количество народу, все внимали выступлениям и завистливо принюхивались ко мне, потому что я, изображая лицо, приближенное к императору, сидел рядом с Председателем и пил лимонную водку, не обращая внимание на голодных гостей.
читать дальше
Когда я совсем был уже хорош, начали представлять мои рассказы, опубликованные в этом выпуске альманаха. Фурор, как и ожидалось, вызвала публикация рассказа, посвященного нашему дорогому Рустамычу.
читать дальше
В зале шептались: "кто это такой? Шо это за Гизатулин? Ай да Гизатулин! Во дает Гизатулин". Я привстал со стула и невнятно рассказал о Рустамыче, о том, какую хорошую книжку об Окуджаве он написал, какой он большой, толстый и симпатичный. Брат! - растроганно рычал я в зал и бил себя в грудь, как орангутан. Гости оживленно хлопали в ладоши моей экспрессии. Потом я сошел со сцены и спел немузыкальным голосом песню моей юности:
"летящей походкоооой
ты вышла за водкоооой
и скрылась из глаз
под машиииииной Камаз!"
Аллах знает, каким образом возникла у меня ассоциация творческого вечера с этой песней, но гости умилились и захлопали, поняв так, что это мои новые стихи. Телевидение снимало не переставая. Моя школа! - одобрительно сказал Председатель и стукнул кулаком по столу. Я пошел в туалет. На обратном пути в коридоре на меня напала рослая, но симпатичная девица - белокурая негритянка, охранница с пистолетом. Я до сих пор не понимаю, что с ней было, но сознание мое ухватило один фотокадр - охранница, расстегнув брюки, помахивает фирменным ремнем, на котором болтается огромный армейский пистолет сорок восьмого калибра. Я шарахнулся в сторону, сделал прыжок, проскочил мимо нее и вернулся в зал. В зале на меня напал восьмидесятилетний поэт в наполеоновской треуголке и толстовке а-ля Солженицын, с сивой бородой до пояса, известный всему Иерусалиму Вильям Бабкин, автор десяти книг трогательных стихов, последний романтик, как он умиленно называет себя сам. Что это за Гизатулин? - строго спросил он меня, со скворчаньем, как старая раковина, всасывая в себя стакан красного сухого. - Это мусульманин? - Это очень, очень плохой мусульманин, - ответил я. - В каком смысле? - удивился он. - В том смысле, что и Белла Ахмадулина, - пояснил я. - Хм, - сказал он и выкатил на меня глаз. Нехороший какой-то глаз, мутный. - В каком смысле как Ахмадулина? - продолжал допытываться последний романтик. - Папаша, пусть вас не волнует этих глупостей, - процитировал я, чтобы отвязаться от него, - мине нарушают праздник; пожалуйста, выпивайте и закусывайте. - А если он плохой, то почему рассказ о нем несет в себе суррогат мусульманской формулы для правоверных? - продолжал он, не обращая внимания на тень великого Бабеля, витавшего между нами. - Как вы умно выражаетесь, папаша, - сказал я и погладил его по плечу. - Он плохой мусульманин в том смысле, что имеет глупость быть воинствующим атеистом; но как человек он хороший, понимаете? И писатель неплохой, и биограф хороший весьма. - Поэт медленно удивился. - Атеист, вы говорите? И хороший человек притом? Как это? - Мне все это уже надоело, я с нетерпением поглядывал на стол, вокруг которого пировали, орали стихи и песни, спорили, обнимались и целовались прозаики, журналисты, публицисты, литературные критики и поэтессы. - Папаша, - сказал я, - вы мыслите узко, как подобает не поэту... - Атеист! - еще раз ужаснулся он.- Великий Хайям был вольнодумцем, но до такого не доходил. - О Аллах, - вздохнул я. - И великий Джами... - продолжал он. - Слушайте, я хочу выпить и закусить, - сказал я. - Атеист! - еще раз воскликнул он, - а вы посвящаете ему рассказ! - С отвращением глядя на меня, он отошел в сторону и смешался с толпой. В зале стоял дым коромыслом. Черно-белая охранница с пистолетом целовалась в углу с юной поэтессой Зоренькой. Гости, глядя на сцену, оглушительно, хором били в ладоши и кричали "Асса!"
Председатель отплясывал канкан.
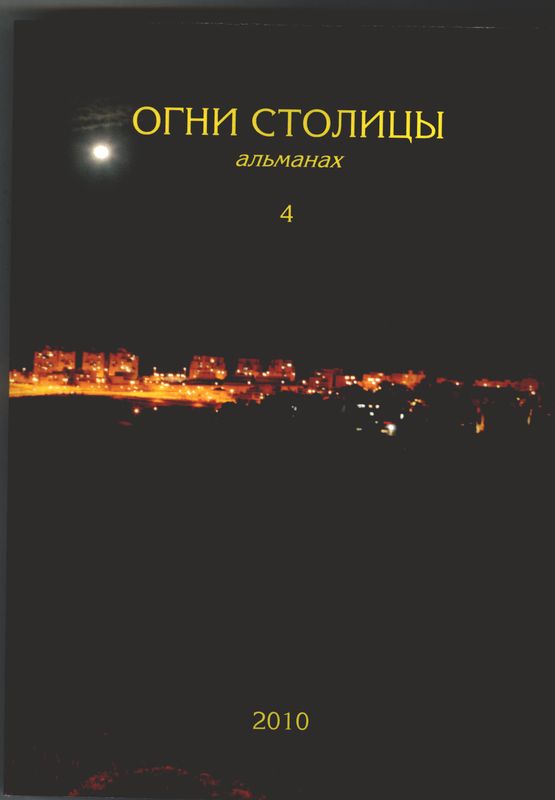



-
-
20.09.2010 в 17:15-
-
20.09.2010 в 18:05